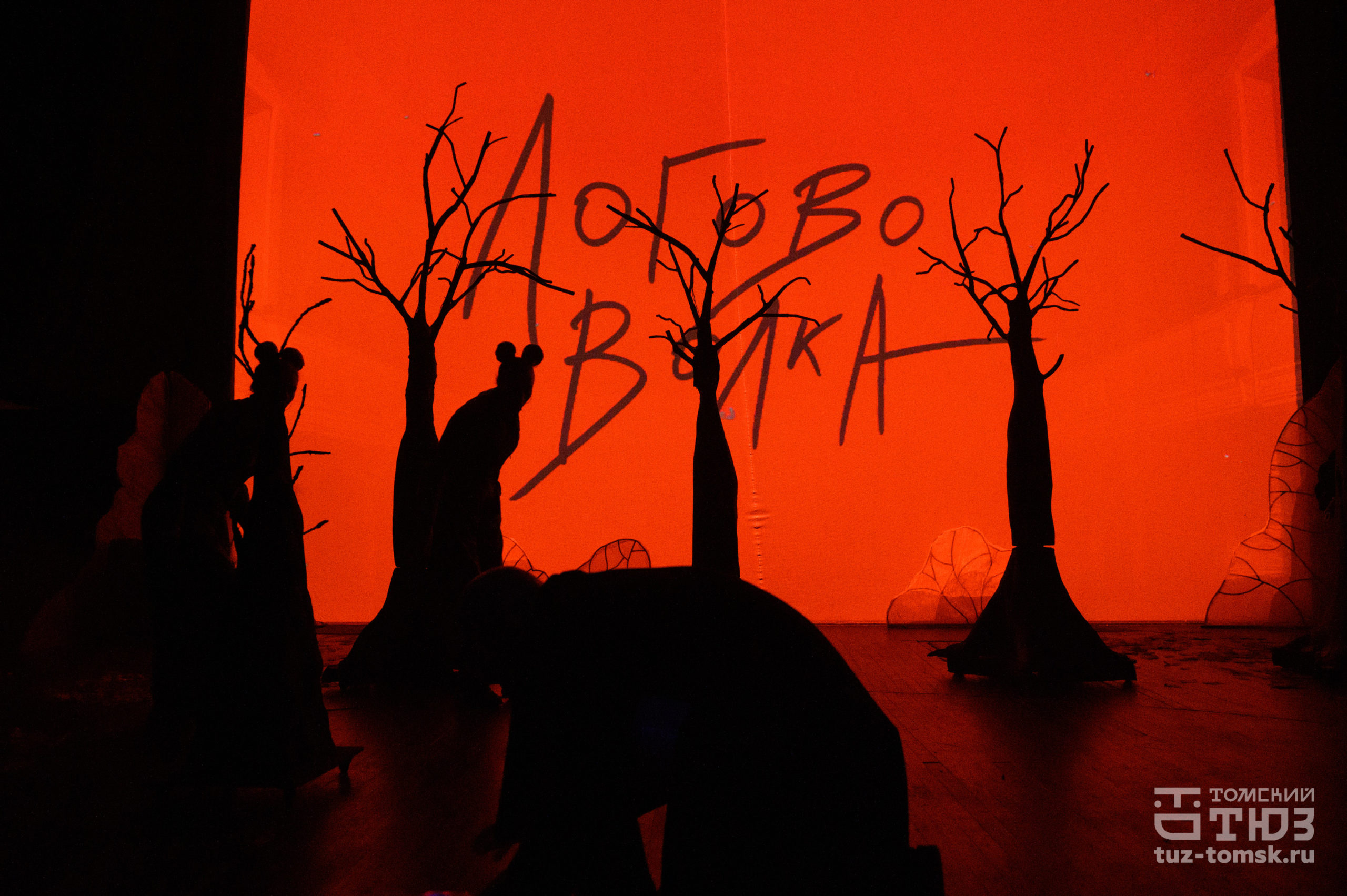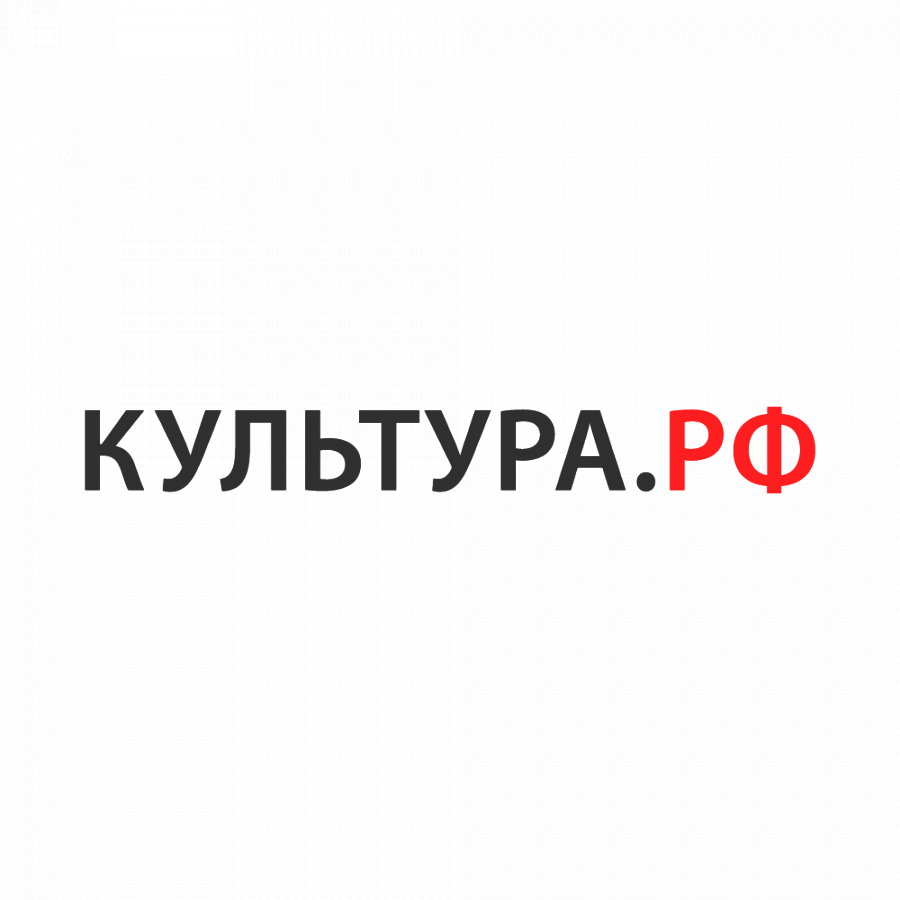ближайшие спектакли
25
Апреля
Четверг
19:00
Как я стал...
Пьеса для кино

18+
26
Апреля
Пятница
19:00
Женитьба
Комедия в двух действиях по мотивам одноименной пьесы Н. В. Гоголя

16+
27
Апреля
Суббота
11:00
Тараканище
Страшно красивая сказка

0+
27
Апреля
Суббота
13:00
Тараканище
Страшно красивая сказка

0+
28
Апреля
Воскресенье
11:00
Капризная принцесса
Волшебная наука

6+
28
Апреля
Воскресенье
16:00
Зверский детектив. Логово волка
И ежу понятно

6+
29
Апреля
Понедельник
11:00
Фестиваль "Майский жук"
Спектакли детских самодеятельных театров
29
Апреля
Понедельник
17:00
Зверский детектив 2. Право хищника
Спектакль для семейного просмотра

6+
30
Апреля
Вторник
11:00
Фестиваль "Майский жук"
Спектакли детских самодеятельных театров
1
Мая
Среда
10:00
Фестиваль "Майский жук"
Спектакли детских самодеятельных театров
2
Мая
Четверг
18:30
Дети и эти
Спектакль для семейного просмотра

6+
3
Мая
Пятница
19:00
Обыкновенная история
Необыкновенная история

12+
4
Мая
Суббота
11:00
Капризная принцесса
Волшебная наука

6+
4
Мая
Суббота
15:00
Бегемот-невидимка

6+
5
Мая
Воскресенье
11:00
Рыжая история
Большие приключения для самых маленьких

0+